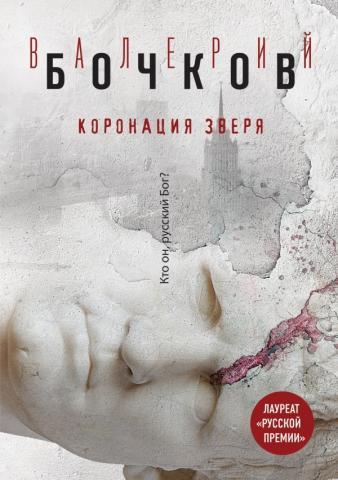
Я не претендую на звание эксперта в изобразительном искусстве, кстати, не уверен, является иконопись живописью или относится к станковой графике, но эта картина определенно была шедевром. Редко бывает, чтоб от доски, раскрашенной темперной краской, по спине ползли мурашки. От этой — ползли.
Внизу была изображена мускулистая тварь, помесь жилистого борца со спрутом. Дракон. Дьявол. Он был красен, как кровь, и сиял, точно с него живьем содрали кожу. При всей условности изображения, художнику удалось добиться невероятного реализма ювелирной проработкой деталей. На каждом мускуле, на каждом изгибе трех змеиных хвостов, на каждом щупальце сверкали хрустальные блики. В поднятой руке дьявол сжимал корону, он протягивал ее Зверю.
Зверь был центром композиции. Развернув перепончатые крылья, он походил на гигантскую летучую мышь, на двухголового монстра, гордого и жуткого, застигнутого в момент взлета. Казалось, еще миг — и чудище взмоет ввысь.
Приблизив лицо почти вплотную, я разглядел, что тело Зверя, точно мозаика, было составлено из людских лиц. Орущие рты, выпученные глаза, гримасы гнева и злобы — сорвавшаяся с цепи свора безумцев.
— Но кто же тогда Зверь? Если он не дьявол…
— Зверь, — тихо, почти шепотом, ответила она, — он больше, чем дьявол. Это вся сатанинская рать антихриста, все силы зла.
— Но ведь это люди?
— Люди? Да, люди.
Она замолчала, потом продолжила:
— Люди. Им гораздо спокойней считать квинтэссенцией зла какое-то рогатое чудище. Или Гитлера. Или Сталина, или Нерона с Наполеоном, или еще какого-нибудь тирана. Главное, чтобы у зла было имя, главное, чтобы зло было заключено внутри одной личности.
Да, она была права. Что есть истина? — вопрошал Пилат, прости Господь его грешную душу. Истина? Я не верю в истину. Я не верю в справедливость. Существуют различные точки зрения. Правда как монета, у нее всегда две стороны. В Нюрнберге оператор газовой камеры, убивший сорок семь тысяч заключенных, говорил: я солдат! Я лишь выполнял приказ! Сталинский палач, расстрелявший собственноручно три с половиной тысячи человек, отмахивался от обвинений: я маленький винтик большой машины. И тот, и другой не лгал, то есть они оба говорили правду. Свою правду. Что говорит мерзавец, когда его прижали к стенке, когда не на кого свалить свою вину? Он говорит: это не я, это меня бес попутал. Дьявол соблазнил.
Картина меня будто загипнотизировала. Я не мог оторвать глаз от мастерски выписанных лиц и рук, позы казались вычурными, точно танец Нижинского. Теперь я разглядывал круглые медальоны, расположенные по периметру композиции: вот четыре всадника Апокалипсиса, вот Вавилонская блудница, вот Семь знамений.
— Удивительно похоже на Босха, — пробормотал я. — Тот же…
— А это и есть Босх, — сказала наставница.
Я поперхнулся. Молча повернулся к ней. Она явно не шутила.
— Вы представляете… — начал я.
— Не представляю, а знаю точную сумму, — перебила она. — Сестра…
— Господи! — вскрикнул я. — Да кто ж она такая, ваша сестра? Билл Гейтс? Клеопатра? Царица Савская?
— Анна Гринева, — ответила наставница.
Я застыл.
В моей голове точно включили свет, точно какой-то электрик наконец распутал провода, правильно соединил контакты и изящным жестом повернул рубильник. Кусочки мозаики соединились, головоломка сложилась тютелька в тютельку, путаница штрихов и пятен превратилась в морской пейзаж с чайками и белым парусом на горизонте.
Я закрыл лицо ладонями. Медленно опустился на корточки. Я дико устал за сегодня, выдался на редкость насыщенный день. Больше всего на свете мне хотелось остановить время, лечь на пол и забыть обо всем.
— Дмитрий, — тихо позвала она.
Я с трудом выпрямился, посмотрел на нее. Да, теперь я вспомнил лицо ее сестры — та же породистая уверенность черт, высокий лоб, крепкий, почти мужской подбородок.
— Как вас зовут? — устало спросил я.
— Ольга.
— Ну да, — усмехнулся, — как же еще. Княгиня…
У меня начала болеть голова, зверски и сразу — тягучая боль заполнила жаром череп, точно туда влили кипящий кисель. Господи, как же все отвратительно складывалось!
— Ольга, вы понимаете, — с трудом начал я, — так нельзя. Нельзя так, они же дети — и Зина, и дочь Сильвестрова, и мой сын. Как можно… Как можно пытаться сделать добро, даже спасти человека, людей, таким образом? Даже самое, самое благородное на свете нельзя такой ценой… Нельзя.
Говорить было трудно, каждое слово отдавалось тугой болью в затылке. Ольга, чуть склонив голову, мрачно слушала меня.
— Чем вы лучше? — Я вдавил пальцы в виски, прикрыл глаза. — Чем вы лучше тех продажных попов? Или того же Сильвестрова? Какое это христианство, к чертовой матери? Украсть ребенка! Я был там, я видел — он чуть с ума не сошел. Ну как же можно так? Это ж такая боль, как можно такую боль человеку…
Я махнул рукой. Зачем я все это говорил? Почему? Наверное, от бессилия.
— Хорошо, я — атеист, агностик, пропащая душа! Но вы! — Я сделал к ней шаг. — У вас вон церковь своя! Иконы, свечи, лампады! Христос в натуральную величину! Гвоздями железными прибит… Как вы могли? Что бы он сказал? — Я ткнул пальцем в сторону алтаря. — Иисус!
Я почти орал, эхо ухало в непроглядной темени где-то наверху.
— Ведь он говорил не о любви к ближнему — каждый дурак может ближнего возлюбить, Христос призывал полюбить врага. Врага! Полюбить Сильвестрова! Да, тирана, да, диктатора! Полюбить и простить, не око за око, не зуб за зуб, а простить! Другую щеку подставить. А не бензоколонки взрывать.
Я выдохся, мокрая рубаха прилипла к спине. Мне казалось, что именно сейчас моя бедная голова взорвется и разлетится на мелкие кусочки по всей ее церкви.
— Вы правы, — она произнесла тихо, посмотрела на деревянного Иисуса. — Все так. Но у меня нет другого выхода. Я должна ее спасти. Я должна остановить его, остановить террор. Остановить казни. Они эшафоты строят перед Кремлем. Эшафоты на Красной площади, понимаете? Сильвестров идет навстречу пожеланиям трудящихся, выполняет волю народа великой России. А народ жаждет крови предателей родины.
Она замолчала, точно обиделась. Я почувствовал себя виноватым.
— Эшафоты… Вы уверены? Что за средневековье… Откуда у вас вообще такая…
— У нас осведомители в ближайшем окружении Сильвестрова, — перебила она мое блеянье. — Казни начнутся послезавтра… Вернее, уже завтра.
Конец фразы повис в воздухе. Я не знал, что возразить, возражать было нечего. Поднял руку, посмотрел на часы. Три часа ночи.
— Да, поздно… — устало проговорила она. — Пошли. Дмитрий вас ждет.
48
Сын, мой сын. Встречу с ним я воображал себе сотни раз за последние дни, событие это рисовалось мне то аскетичным до карикатурной брутальности — строгий взгляд глаза-в-глаза, угловатое мужественное рукопожатие: здравствуй, сын! — рад тебя видеть, отец; то сентиментальным, как мутное кино с участием черно-белой Марлен Дитрих — драматичные жесты, порывистые объятья, мужские слезы, скупые, разумеется. Одно было неизменным — сын всегда оставался тем мальчишкой с курортной фотографии, моим нежным и невинным двойником, наивным и беззащитным подростком.
Мы с Ольгой вышли из церкви. Ночь сгустилась, звезд не было, удушливо пахло прелыми розами. Прошли через сад, вошли в особняк. В конце коридора Ольга остановилась перед дверью.
— Ну вот, — тихо сказала она. — Дальше вы сами.
Я рассеянно кивнул, что-то пробормотал. Она ушла, я остался перед дверью. Негромко постучал.
Меня сразу поразило, что это был мужчина. Не пацан с выгоревшими бровями, вполне взрослый человек, даже слово «парень» как-то не очень к нему подходило. Он встал из-за стола и оказался на полголовы выше меня. Поразило наше сходство — не просто очевидное, но и чуть обидное для меня. Он был улучшенной версией меня, вроде новой модели машины или холодильника. Эдакий Дмитрий Незлобин 2.0 — исправленный и улучшенный, с учетом всех недостатков и просчетов предыдущей модели.
Мы внимательно глядели друг на друга. Меня охватила легкая паника, я понятия не имел, как с ним разговаривать. Роль мудрого отца, патриарха, опытного наставника и доброго советчика разлетелась вдребезги. И дело было на только в росте и проклюнувшейся утренней щетине на подбородке: от него исходила спокойная уверенность, та неспешная грация, которой всю жизнь не хватало мне. Меня кольнуло что-то вроде зависти. Думаю, примерно так выглядел бы актер, если бы в Голливуде кому-то пришла мысль снимать про меня кино.
Что-то нужно сказать, что-то сделать, метнулась испуганная мысль. Я выставил деревянную ладонь. Он крепко ее пожал. Тут же, улыбаясь, наклонился и обнял меня за плечи. Я растерялся, с неуклюжей осторожностью обхватил его спину. Из черной бездны памяти выплыли слова моего отца, которые он сказал за несколько часов до смерти, сказал обо мне: «Бесплатный суп, которым я кормлю самого близкого мне человека. Душевная инвалидность какая-то…» Господи, неужели и у меня — острая форма дистрофии души, неужели и я — такой же душевный калека, как и мой отец?
— Мама мне все рассказала месяц назад. — Он отступил назад, глядя мне в глаза. — Потрясающе…
— Потрясающе, — согласился я, хотя точно не знал, что он имел в виду. Практически все происходящее могло соответствовать этому определению на все сто процентов.
— Она всю жизнь прятала от меня фотографии, —улыбнулся он. — Старые, когда вы с ней были женаты.
Я не понял, называет он меня на «вы» или говорит о нас с Шурочкой.
— Да, мощная генетика по мужской линии, — попытался сострить я. — Я тоже был очень похож на отца. Она… мама тебе что-нибудь рассказывала о нем?
— Что он погиб, когда тебе было лет десять. А мать умерла от менингита еще раньше… Что тебя воспитывала тетка.
Уже легче — это «ты» он произнес совершенно естественно.
— Да. Мы с отцом плыли на корабле, знаешь, такие круизные громадины? Он там в оркестре играл, на саксофоне.
— Серьезно? На саксе?
— Угу. Отличный был музыкант.
С отчетливостью вчерашнего дня в памяти раскрылся тот вечер, тот последний вечер на корабле, когда отец играл Дебюсси. Воскресли запахи, звон столового серебра, мутные лица, жующие рты, багровый затылок наголо бритого господина за соседним столиком. Отец стоял на самом краю полукруглый эстрады, подавшись вперед, как бесстрашная и гордая птица над бездной. Саксофон жертвенно сиял золотом, отец выдувал божественные трели, точно пытался донести какую-то сокровенную истину этим скучным людям, чванливым и безразлично ленивым.
Мне страшно хотелось рассказать сыну об этом вечере, мне почему-то казалось очень важным объяснить, что я тогда испытывал. Точно от этого зависело что-то главное в наших с ним отношениях, хрупких, только пробивающихся сквозь асфальт, отношениях между мной и моим сыном. Что я испытывал тем вечером? Любовь, восхищение, что еще? Слова легковесны, особенно если ими пытаешься объяснить чудо.
Он, мой отец, был для меня богом. Всемогущим и добрым великаном. Как мне объяснить это тебе? Иногда он задевал макушкой облака, наверняка мог раздвинуть море, если бы в этом возникла острая потребность. Он запанибрата общался с ангелами, иногда мне удавалось даже расслышать трепетный шелест их крыльев, уловить краем глаза отблеск радужного сияния их хитонов на фоне стены, увитой диким виноградом. Память сохранила несколько картин, не так много, но это все, чем я могу с тобой поделиться. Загорелая рука, крепкие пальцы сжимают сигарету с золотым ободком, чашка черного кофе на забытой газете. Отец щурится от дыма, мне кажется, что он сейчас рассмеется. Он откидывается в плетеном кресле, проводит рукой по жестким волосам и подмигивает мне.
Не сохранилось ни одной звукозаписи, но это даже к лучшему, его музыка осталась на свободе. Она растворилась в тягучем закате, в мутном тумане, в медленно кружащем снеге. В сиротском скрипе ржавых качелей во дворе мне удается расслышать его неповторимое фруллато в песне тоскливого ветра. Иногда в бурю, среди молний и ливня я улавливаю его уверенное глиссандо. Я поделюсь этими мелодиями с тобой, уверен, они и тебе придутся по душе. Что он имел в виду, когда говорил: «Каждый день живи так, будто это твой последний день»? Я не знаю, я пытаюсь понять это всю свою жизнь. Изо дня в день. Иногда мне кажется, что в этом и есть смысл — в самом процессе. В стремлении жить без оглядки, жить на всю катушку. Так, будто это и есть твой последний день на земле. Ведь однажды ты окажешься прав на все сто.
49
Негромко запиликал телефон. Сын кивнул, извиняясь, вынул из кармана трубку. Я замолчал.
— Что? — переспросил он. — И Томск?
Он дослушал, нажал отбой.
— Китайцы заняли Красноярск, Новосибирск и Томск.
— Как это заняли?
— Объявили своей территорией.
— Как? Там кусок размером в три Франции! — возмутился я. — Мы ж не в пятом веке живем!
Сын открыл ноутбук. На сайте «Би-би-си» эта новость была главной: правительство КНР заявляло, что аннексия является чрезвычайной вынужденной мерой, вызванной коллапсом центральной власти в России, и ставит своей целью обеспечение порядка и безопасности китайского населения, проживающего на территории Алтая и Барабинской низменности.
— Какое, к черту, китайское население? — не унимался я. — В Томске?!
— Ты, похоже, не очень следил за политикой. — Сын перешел на сайт «Си-эн-эн». — Наш мудрый президент подписал кучу договоров с Китаем. О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Под Новосибирском китайцы построили самый крупный автозавод в мире, клепают там патентованные «форды». В регионе китайцев в два раза больше, чем русских и всех других вместе взятых.
— Вот видишь, —ткнул он пальцем в экран. — Оказывается, были еще и секретные соглашения.
Я прочитал: «Китай опубликовал секретный меморандум, подписанный президентом Пилепиным три года назад». Из него следовало, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств китайская сторона вправе использовать ограниченный военный контингент на указанной территории.
— Это ж филькина грамота! — пробормотал я. — Это бред, и этот бред противоречит конституции России.
— Добро пожаловать домой, — усмехнулся сын. — Давненько ты не был на родине. А ты знаешь, что в Харбине абсолютно легально работает гигантский комплекс по выпуску синтетических наркотиков? И этой дрянью через Амурскую область снабжается вся Россия? Предприятие убыточное и находится на бюджете…
— Торговля наркотиками убыточна? — засмеялся я. — Так не бывает.
— Бывает. Если целью является не прибыль. Там, в Сибири доза «белого китайца» стоит дешевле чашки кофе.
— «Китайца»? Что это?
— Синтетик, аналог героина. — Он захлопнул ноутбук. — И все это происходит с ведома Кремля.
— Что «это»?
Он замолчал, внимательно посмотрел на меня.
— Геноцид. Они уничтожают собственный народ.
Он мотнул головой и заговорил, зло и быстро:
— Им не нужны люди. Они им мешают.
— Кому? — резко спросил я.
— Власти. Для обслуживания трубы достаточно нескольких тысяч. Плюс армия и полиция. Бюрократы и прочие холуи в Москве и Питере, обслуживающие власть — вельможи, клоуны, агитаторы. Остальные — балласт. Банальный человеческий мусор. Бесполезный хлам. У нас нет экономики. Наша промышленность мертва. Люди ходят на работу, что-то выпускают, но это никому не нужно. К тому же этим людям нужно платить зарплату, пенсию. Снабжать продовольствием, содержать больницы и школы. Ведь эти мерзавцы еще имеют наглость размножаться!
— Погоди, — перебил его я. — А как же оборонка? Этот, как его, ваш супертанк «Центурион»? Новый «МиГ»? Атомные подлодки? Ведь это же промышленность, да еще какая!
— Муляжи! — отмахнулся он. — Россия превратилась в одну большую потемкинскую деревню. Они демонстрируют опытный образец, устраивают трезвон в прессе. Пропаганда! Вранье — вот в чем они действительно добились невиданных успехов. За двадцать лет Пилепин превратил Россию в фашистское государство. И это не ругательство, не фигура речи, это констатация факта.
Он замолчал, потом добавил:
— Тебе-то, как социологу, это должно быть ясно.
Ясно. Ясно как божий день. Я ненавижу огульные обобщения, плутовскую классификацию ради красного словца, не люблю ярлыки и псевдонаучную терминологию. Они отвлекают от сути дискуссии, этот прием используют вербальные жонглеры, словесные факиры. Кстати, сам Гитлер никогда не называл себя фашистом, он был национал-демократом. Третий Рейх был классифицирован как фашистское государство на Нюрнбергском процессе.
50
Термин «фашизм» придумал Бенито Муссолини, и был страшно этим горд. По-итальянски слово означает «пучок», безобидную связку прутьев, что-то вроде метлы.
— Прутик! Тонкий прутик! Сломать каждый прутик по отдельности ничего не стоит! — кричал Муссолини с трибуны, пуча глаза и размахивая кулаками. — А вот мы их соберем вместе, в пучок, да еще свяжем крепкой веревкой. Тугими узлами, вот так! Вот так! Вот ты теперь попробуй нас сломай!
Муссолини был гораздо колоритней Адольфа. Искрометный актер, готовый выступить в любом амплуа — от Панталоне до Ковьелло. Страстный оратор — его речи наполовину состояли из восклицательных знаков. Неукротимый любовник — количество женщин, с которыми он имел связь, превышало население небольшого европейского государства. Заядлый до одержимости спортсмен: он был победителем парусных регат, чемпионом по автогонкам, участвовал в фехтовальных турнирах, в лыжном пятиборье, побеждал в конных скачках и морских заплывах. Носил звание «Первый пилот итальянской империи» и действительно в одиночку летал на самолете. Любил босиком совершать пятикилометровые кроссы по берегу моря.
Юный Муссолини произвел впечатление даже на вождя мирового пролетариата. В 1920 году во время съезда Коминтерна Ленин с досадой спрашивал у итальянской делегации:
— Где вы потеряли Муссолини? В Италии есть всего один человек, способный привести страну к революции, и это Бенито Муссолини. Найдите его, пока не поздно!
У Гинденбурга было более сдержанное мнение, впрочем, не относительно Муссолини, оно касалось итальянцев:
— Даже такой гений, как Муссолини, не сможет сделать из итальянцев ничего больше, чем итальянцы.
А вот Адольф испытывал к Бенито почти девичий восторг:
— При встречах с ним я испытываю особую радость. Он грандиозен!
Гитлер в меру скромности своих талантов во многом подражал Муссолини: он заимствовал у своего южного коллеги нацистский салют — вытянутую вперед-вверх правую руку; титул «дуче» переводится на немецкий как «фюрер»; штурмовые отряды Муссолини назывались «чернорубашечники»; Адольф нарядил своих в коричневую униформу. Триумфальный «Марш на Рим», сделавший Муссолини премьером, вдохновил Гитлера на «Пивной путч». К сожалению, эта история закончилась для Гитлера не столь успешно.
Сам дуче относился к фюреру пренебрежительно, особенно поначалу. Летом тридцать четвертого он говорил:
— Это назойливый немец, этот Гитлер — существо жестокое и свирепое. Он напоминает мне Аттилу. Германии так и не удалось вылезти из варварства, там ничего не изменилось со времен Тацита. Германия — извечный враг Рима.
Он оказался прав, Третий Рейх чуть не угробил Италию. За несколько дней до гибели, в своем последнем интервью журналистке Маделин Моллир дуче воскликнул:
— Да, мадам, я закончил. Моя звезда упала. Я знаю, что это все — всего лишь фарс… Я жду конца трагедии — я не чувствую себя больше актером. Я чувствую, что я последний из зрителей.
Так что такое «фашизм»? На личном штандарте Муссолини был изображен древний символ Римской империи — секира, вокруг рукоятки — пучок березовых веток, стянутый веревками. Изображение символизирует государственное и национальное единство. Секира — вертикаль власти, связанные в пучок ветки — народ. Народ по своей природе инертен и консервативен, он верит в торжество добра над злом, любит решительную власть, обожает порядок и дисциплину. Народу нравится стабильность, он уверен, что развитие общества — это улучшение качества жизни, он называет это благоденствием. По мнению народа, благоденствие возможно лишь при наличии сильного национального лидера. Как только такой появляется, народ уже боится его потерять — кто, если не он? Национальный лидер для закрепления своей власти должен убедить народ, что он «кровь от крови, плоть от плоти народной». Что он свой в доску, что роднее его не найти. Тут начинается клоунада — вождь идет в народ: начинаются кроссы босиком по пляжу, полеты на дельтаплане, пение со сцены, демонстрация мускулатуры и прочие физкультурные номера. Происходит метафизическая диффузия лидера и народа. Женское население доходит до эротического обожания избранника, мужское готово с таким пойти в разведку. Получив от народа карт-бланш, лидер превращается в полноценного диктатора: появляется великая цель, оппозиция уничтожается, средства массовой информации становятся средствами пропаганды, расцветает патриотизм, на место интересов личности выходит государственность. Чудесным образом и неизвестно откуда появляются коварные враги, внешние и внутренние, тут же звучат призывы «Сила в единстве!», «Кто не с нами, тот против нас!».
Если отбросить репрессии, геноцид и скотскую сущность такой общественной структуры, то главная проблема ее заключается в абсолютной экономической несостоятельности. Такой режим непременно заканчивается застоем и загниванием общества.
Главная опасность в том, что вирус фашизма присутствует в каждом народе, в каждом человеке. Апеллируя к метафизическому сознанию толпы, фашизм видится логичным решением всех государственных проблем, простым и ясным. Общественное сознание само формирует социальный запрос — и непременно тут же, как черт из табакерки, появляется блистательный герой в сияющих доспехах, храбрый гений, готовый взвалить на себя бремя вождя нации.
Фашизм на возникает в здоровом обществе, фашизм — это ответ на проблему, на несчастье. Все счастливые нации похожи друг на друга, каждая несчастная несчастна по-своему. Италии мерещилась великая Римская империя — Муссолини объявил построение великого государства национальной идеей, немцам, кроме великой империи, очень хотелось еще и величия нация — Гитлер официально утвердил немцев самым качественным из всех народов, населяющих планету. Русские, обожающие справедливость, получили от Ленина заверение, что богатых больше не будет и все будет поделено поровну.
Да, в истории каждой нации случались катастрофы, когда реакция сплочения пучком вокруг топора была оправданной. В этой фразе ключевое слово «катастрофа». Ситуация экстраординарная и потому непродолжительная. Если же из года в год вам говорят, что страна — в кольце врагов, что для спасения нации необходимо сплотиться вокруг лидера, что лидер это и есть нация, если слово «патриотизм» звучит чаще, чем раз в неделю, — будьте уверены, болезнь уже началась.
51
— Умберто Эко читал в Колумбийском университете свой трактат «Вечный фашизм»… — Я попытался вспомнить, когда. — Кажется, в девяносто седьмом, я еще жил в Москве. Да, середина девяностых.
— И? — нетерпеливо спросил сын.
— Там он приводит четырнадцать признаков фашизма. Он сказал, что если в обществе присутствуют семь из них, то это общество неумолимо катится к фашистской диктатуре в том или ином ее проявлении. Поскольку он выступал перед студентами, то несколько упростил концепцию, потом этот доклад вышел отдельной книжкой, кажется в…
— Не отвлекайся, —улыбнулся сын.
— Да, конечно. — Я улыбнулся в ответ; господи, как же мы с ним похожи! — Умберто Эко утверждал, что поскольку сам термин «фашизм» стал ругательством и фашизмом обзывают теперь что угодно, то крайне важно, перестав спорить о названии болезни, описать ее основные симптомы.
— Четырнадцать ровным счетом?
Я кивнул и продолжил.
— Традиционализм — вот первое условие. Истина найдена лидером, дальнейший поиск является богохульством…
— Ты имеешь в виду философию?
— В первую очередь. В основе должна лежать какая-то философская концепция, например…
Я хотел упомянуть итальянский синкретизм, типичный для итальянских фашистов, смешивавших Грамши и Генона, но не успел, из коридора раздался грохот, захлопали двери, затопали башмаки. Дверь распахнулась, в комнату влетел парень, рыжий и по пояс голый.
— Димыч! — заорал он. — «Железная гвардия»… в Москве!
Он здорово заикался.
— Как же мы проморгали?
— Вот так! Д… десант! Резня по всему городу!
— Что за гвардия? — Я повернулся к рыжему, но он уже выскочил в коридор.
— Южная, — ответил сын. — Батальон смерти султана Кантемирова. Если их Сильвестров вызвал, то он просто с ума…
Зазвонил телефон.
— Да! — ответил сын. — Сейчас буду.
— Извини. — Он нажал отбой, сунул телефон в задний карман. — Подожди здесь, хорошо? Я быстро.
Он выскочил в коридор. Я посмотрел на часы, было почти четыре утра. Я понятия не имел, какой сегодня день, какое число. Я сел за стол, открыл ноутбук. На сайте «Ройтер» под невразумительным заголовком «События в Москве» были выложены фотографии и короткое видео — в кромешной тьме мигали трассирующие очереди, вспыхивали разрывы, рыжие и лимонные, вспыхивали с каким-то карнавальным треском, где-то рядом нудно долбил пулемет.
Я перешел на сайт «Нью-Йорк таймс». Там фотографий не было, но был экстренный выпуск. Тоже невнятный, сплошные догадки и предположения. Главный вопрос — это интервенция или Сильвестров сам обратился к Кантемирову за помощью, — оставался без ответа. Никаких официальных заявлений. Впрочем, были факты. Вернее, один факт. Войска суверенного султаната вели боевые действия в столице Российской Федерации.
Далее автор приводил выдержку из соглашения трехлетней давности, по которому бывший субъект Федерации выходил из состава России и становился независимым государством. По мнению автора, меморандум к этому соглашению о военном сотрудничестве и взаимопомощи мог стать легитимной основой для введения войск в Москву.
Я засмеялся: какие, к чертовой матери, легитимные основы! Кого они здесь вообще интересуют! Америка и Евросоюз с тупым упрямством продолжают подходить к России со своими правовыми мерками, придуманными для какой-нибудь постной Голландии или, на худой конец, острова Кипр. Святая простота! Тут горожане, вроде как столичные жители, жгут посольства и иностранцев линчуют. Да с каким куражом, с каким азартом! Я вспомнил орущую толпу, страшных повешенных под мостом, сизый дым, ползущий по Москве-реке. Вспомнил людскую лавину, прущую по Кремлевской набережной. Ругань, крики, вой раздавленных… Орда, дикая орда. А вы мне про легитимные основы, мать вашу...
Обновилась страница, под шапкой «молния» появилась свежая информация. В обращении к нации Сильвестров объявлял в России военное положение. Объявлял на основании Конституции и в соответствии со статьей первой из Конституционного закона о военном положении. О головорезах Кантемирова Сильвио не сказал ни слова.
В коридоре затопали. Я повернулся, в двери появился тот же рыжий парень. Заика. Такой же всклокоченный, но уже в белой майке с надписью «Бруклин, Нью-Йорк».
— Ольга Кирилловна просит вас п…п… — Он застрял, я пришел на помощь:
— Пожаловать? Прийти?
Он смущенно кивнул.
По коридору мы шли молча и быстро, почти бегом. Свернули направо, прыгая через две ступени, сбежали вниз по узкой лестнице, похожей на черный ход. Снова выскочили в коридор. Перед обитой железом дверью Рыжий затормозил, распахнул ее, пропуская меня вперед. Комната напоминала подвал, пустой и холодный, с глухими голыми стенами без окон. Пахло сырой побелкой. В центре стоял прямоугольный струганый стол, за ним сидели люди.
— Заходите, — Ольга указала на пустой стул. — Садитесь, Дмитрий.
Я сел. Кроме Ольги и моего сына, за столом было еще двое — бритый наголо болезненного вида парень и хмурая девица в толстых учительских очках. Я хотел сострить насчет «Молодой гвардии», но, поглядев на лица, передумал. Им тут явно было не до шуток.
— Слушаю вас, — обратился я к Ольге и положил ладони на стол.
Дерево было старым и холодным на ощупь. Столу было лет сто пятьдесят, если не все двести.
— Вы лично знаете Сильвестрова, —решила обойтись без реверансов Ольга. — Как психолог…
— Социолог, — поправил я.
Она не обратила внимания на замечание и продолжила:
— …вы можете объяснить его мотивацию, предугадать действия. Как он принимает решения? Чем руководствуется? В большей степени спонтанен или…
— Вам нужна модель психологического типа Сильвестрова? — перебил я. — Извольте. По типологии Платона, он относится к тимократическому типу с ярко выраженным честолюбием и страстью к лидерству. С явными элементами тиранического типа. По теории Выготского, он относится к концептуальному активному типу. Синтетичен, воспринимает явления как интегрированное целое…
— Извините, — мрачно оборвала меня очкастая девица. — У нас нет времени…
— Ангелина! — одернула ее Ольга.
Девица замолчала, зло зыркнула на меня из-под очков.
Ольга кивнула мне, я продолжил:
— Впрочем, горячая Ангелина, пожалуй, права. — Я сладко улыбнулся, девчонка беззвучно фыркнула. — Времени у нас действительно нет. Чем конкретно я могу помочь?
Мой вопрос повис в воздухе, в подвале наступила тишина.
— Мы хотим чтобы вы от нашего, — Ольга оглядела сидящих за столом, — от нашего имени вступили в переговоры с Сильвестровым.
— Что? —опешил я. — Вы серьезно?
— Вполне. — Ольга спокойно посмотрела мне в глаза.
— А вам не кажется, что это, по меньшей мере, аморально? Украсть ребенка, потом шантажировать отца… Не кажется?
— У нас есть цель, и мы…
— Какие бы замечательные цели вы тут ни ставили, методы ваши — полная дрянь. Дрянь и преступление!
— Послушайте, — Ольга терпеливо продолжила спокойным тоном, — все гораздо сложнее…
— Конечно! — Я сжал кулаки. — Конечно, сложнее! Кто бы сомневался! Ситуация всегда становится гораздо сложнее, как только нужно провернуть какую-то мерзость.
— Дмитрий, — Ольга тоже повысила голос, — послушайте…
— Нет! Это вы послушайте! — Я стукнул кулаками по столу. — Вы понимаете, что существуют моральные границы, которые нельзя преступать? Какие бы там у вас благородные цели ни были! Какое бы распрекрасное будущее вы ни строили! Нельзя, нельзя воровать детей!
— Ее никто не воровал, — проворчала Ангелина, глядя сквозь меня. — Она сама согласилась. Сама.
Я поперхнулся.
— Говорю вам, — сказала Ольга с нотой злорадства. — Все не так просто.
— А как же… — промямлил я. — Как же школа? Пожарная лестница? Циркач-гимнаст?
— Гимнаст, — Ольга улыбнулась. — Жанна зашла в туалет, раскрыла окно, бросила свой браслет — наши уже ждали внизу с голубем. Сама спряталась в кладовке, там, где ведра, швабры всякие, а ночью мы ее забрали…
— Но он же отец… —начал я, но Ангелина меня снова перебила:
— Она его ненавидит! Отец… Как этот тип поступил с матерью…
— Ангелина! — Ольга оборвала ее громко и властно. — Хватит!
Я оглядел их: мой сын что-то чирикал на листе бумаги, опустив голову. Ольга, бритый парень и очкастая Ангелина смотрели на меня.
— Все равно, — я начал, но толком не знал как им объяснить, — все это неправильно, мерзко… Так нельзя…
— Я говорила! — Очкастая Ангелина вскочила. — Я же говорила! Это проклятое поколение, чистенькие интеллигенты! Им бы только болтать о совести, пассионарности и метафизике сакрального сознания. Да! Еще о нравственных принципах. Конечно, как мы без нравственных принципов? Трепачи вы, вот вы кто! Проболтали свои жизни, сожрали себя и друг друга вечными русскими вопросами «Что делать?», да «Кто виноват?»!
Она издевательски засмеялась.
— Кто виноват? А ведь это вы и виноваты! Во всем! — Она ткнула в меня пальцем.
— Прямо-таки во всем, — сердито буркнул я.
— Да! — Скулы ее покраснели, она уже кричала. — Именно вы! Это вы привели к власти Тихого! Железная власть, сильная рука! У вас только две модели общества — или казарма, или свинарник! Вы называете народ быдлом, вы талдычите про холуйскую сущность, про тысячу лет рабства! Вы говорите: а как иначе с таким народом, вы посмотрите, они же дикари, животные? Конечно, только плетка, только плаха. Они ж другого языка не понимают! Говорите так, будто вы сами — английские лорды или гранды испанские и к этому народу, к этой истории отношения не имеете. Чистоплюи!
— Я никогда вашего Пилепина не поддерживал, — рявкнул я. — Я поэтому и уехал…
— Вот именно! Я уехал! Герой! Этот уехал, тот спился, третий продался — у третьего ведь семья и дети. А вам не приходило в голову, что именно из-за вас мы сейчас живем в этом дерьме? Из-за вас, господин профессор, и таких, как вы! Не приходила подобная мысль? Вот вы давеча так красиво про мораль рассуждали, про слезу ребенка, про нравственные барьеры…
— Мораль никто не отменял! — Я тоже вскочил. — Как же банальны ваши рассуждения…
Я махнул рукой. Ангелина часто дышала, красные пятна расцвели на ее бледной шее.
— Да, господин профессор, мораль никто не отменял, тут вы правы. — Она заговорила тише, но с какой-то скрытой угрозой. — Но дело в том, что, оправдывая свое бездействие моралью, ваше поколение оставило нас без выбора. Да, двадцать лет назад можно было обойтись без крови. Сейчас — уже поздно. И виноваты в этом вы.
Ангелина сняла очки, бросила их на стол, устало села. Без очков она выглядела лет на пятнадцать.
Господи, это ж дети, дети! Меня охватила растерянность. Эта девчонка во многом была права. Да что там, во всем она была права! И в том, что из-за нашей интеллигентской щепетильности в выборе союзников мы профукали Россию. И в том, что именно из-за нашей брезгливости — ах, политика, ах, какая грязь, — во власть пролезла вся эта сволочь, ворье и подонки. А когда мы увидели, кто нами правит, мы обвинили в этом народ — конечно, по Сеньке и шапка. Страна рабов, чего тут ждать!
Неожиданно подал голос бритый парень. Он кашлянул и смущенно начал:
— Извините… Вы уехали давно из страны, двадцать лет назад…
— Девятнадцать, — зачем-то поправил я. Мне вдруг пришло в голову, что я уехал, когда они еще не родились, что я для них — ископаемое, древний динозавр, во всем неправый и во всем виноватый.
— Девятнадцать, — согласился бритый, прокашлялся в кулак. — Вы скажете, что следили за событиями и знаете, что происходит в России. Что вы в курсе…
Я пожал плечами, отодвинул стул. Закинул ногу на ногу.
— Мы здесь родились, мы тут выросли. Нас не так много, но мы сила, способная изменить страну. Вашему поколению противно слово «революция», вы его боитесь …
— Не хочу быть банальным, — я сцепил пальцы замком, сложил руки на колене, — но все примеры в истории цивилизации…
Я не закончил — мой менторский тон, моя поза, эти скрещенные ноги, — мне самому стало противно.
— Мы уверены, — вежливо продолжил бритый, — что бездействие в этих условиях преступно. Когда власть совершает преступление против своей страны, против своего народа, бездействие само становится преступлением. Демократические институты уничтожены, поэтому у нас нет выбора. Народ инертен, но народ ничего не решает. Решаем мы. Да, насилие. Да, кровь. Но альтернативы нет. Просто нет.
Он прокашлялся и добавил:
— Извините.













